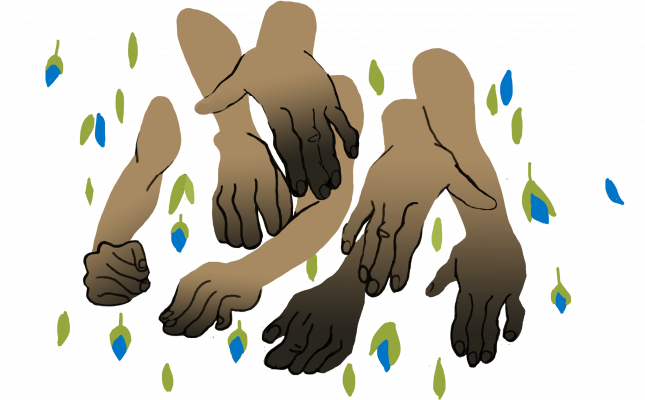За 17 лет работы адвокатом Светлана Сидоркина защищала нацболов, фигурантов «Болотного дела», публициста Бориса Стомахина, анархистов, антифашистов и других политических активистов. ОВД-Инфо поговорил с Сидоркиной об адвокатской деятельности, личном отношении к происходящему, системе репрессий и методах работы ФСБ.
— Когда вы начали заниматься политическими уголовными делами?
— В 2006 году. В Марий Эл было очень экзотичное уголовное дело — я защищала марийского жреца. Он такой своеобразный очень дядька. Считал, что марийская религия самая крутая из всех. Написал об этом книжку, а за это его привлекли к уголовной ответственности. Потом было еще несколько правозащитных дел в Марий Эл и Татарстане, а в 2010 году я переехала в Москву.
— Почему после переезда решили продолжить заниматься правозащитными делами?
— Если бы у меня был выбор, я едва ли ушла в Москве в правозащитную деятельность. Ведь я переехала не с подачи правозащитных организаций, а просто решила что-то поменять в своей жизни. Здесь я скиталась первый год, можно сказать, бедствовала. А потом Паша Чиков (руководитель Международной правозащитной группы «Агора» — ОВД-Инфо) решил мне дать дело. Я сказала — давай. Тем более я тогда без работы была.
Свою юридическую практику я начинала в «Правозащитном центре Республики Марий Эл». Туда я пришла после того, как получила второе высшее образование — юридическое. У меня не было состоятельных родителей, которые бы меня продвигали. Пришла и говорю: так и так, на работу никуда не берут, потому что блата нет, стажа работы нет — вот хочу получить юридический стаж. Руководитель отвечает: «Денег нет — я тебе платить не буду. Но практики — выше крыши».
Следующие три года я совмещала работу в этом правозащитном центре с работой на ТЭЦ. Это были девяностые, нужно было кормить родителей и сестру. На ТЭЦ я работала работягой, по скользящему графику через двое суток. Между сменами шла на работу в правозащитный центр.
День я работала в правозащите, ночью шла в смену работягой. В выходные на ТЭЦ, я опять работала в правозащите
В общем, вот в таком ритме. Без выходных, без отпусков три года. Я сейчас вспоминаю и думаю, господи — как я выдержала. Потом у меня появилось три года юридического стажа, меня взяли в помощники адвоката, затем я ушла в адвокаты.
— Зачем вы пошли в адвокаты?
— Адвокатская-то мечта у меня была такая детская. Я была книжной девочкой, начиталась их и решила помогать людям. Но я не представляла, что это будет так [как сейчас]. Не знаю, сделала ли бы я такой выбор с сегодняшним осознанием себя в профессии.
Потому что столько негатива. Иногда все опускается, понимаешь. Мы недавно с Ильнуром Шараповым выиграли гражданское дело в Котельниках. Там хотели сносить дома, а теперь этого не сделают, если решение устоит в Верховном суде. Вот одно это выигранное дело, когда твоя работа действительно оказала какую-то реальную помощь — весь негатив списывает сразу. И тогда думаешь: «Ну ладно, хоть что-то ты в профессии сделал хорошего».
Но когда судье все пофиг. Когда закон на твоей стороне, а решения все равно принимаются против твоих доверителей. Когда вот с этим постоянно приходится жить, то тяжело.
У меня был период, который продолжался года четыре — до этого года. Был очень сильный эмоциональный спад, о котором я никому особо не рассказывала. Я просто сгорела, работала через силу. Потому что все. Выгорела просто-напросто от всего.
Я в этом году как-то немножко воспряла. Еще коллеги помогли. Они видели, что я не справляюсь эмоционально, поэтому в прошлом году добровольно-принудительно отправили меня в отпуск. Первый раз за 20 лет была в отпуске. После него я начала восстанавливаться.
— Не хотели все бросить?
— Ты понимаешь. Я ведь устаю не столько конкретно от работы по правозащитным делам. От [коммерческих] дел тоже не всегда получаю удовлетворение.
Есть два памятных для меня дела. Первое было в Марий Эл. Парень в итоге не сел. У него сейчас прекрасная семья, жена-красавица и дети. А если бы он сел в тюрьму — неизвестно, как бы его судьба сложилась. Я считаю, что в том, как это дело разрешилось, есть моя заслуга. Они меня уже, наверное, не помнят, это было 15 лет назад, а для меня это было знаковое дело, потому что реально от своей работы получила удовлетворение.
Второе дело было в Москве. Там были анархисты и антифашисты — это дело Шкобаря (Алексея Олесинова — ОВД-Инфо) и [Алексея] Сутуги — дело о драке в клубе «Воздух». На них хотели повесить дополнительно эпизод по 111 [статье УК], это «тяжкий вред здоровью», а у Шкобаря была непогашенная судимость, он бы меньше восьми [лет] не получил.
И там мне удалось доказать, что Сутуга и Шкобарь к этому эпизоду не имеют никакого отношения. Я считаю, что это тоже была наша победа — моя и [адвоката] Димы Динзе. Тогда очень сильно помог Укроп (анархист Владимир Скопинцев — ОВД-Инфо). Он и еще пара ребят помогли собрать доказательства. Укропу надо памятник поставить по этому делу.
Вот эти два дела — такие для меня знаковые. В остальных делах я [такого] морального удовлетворения не получала.
— Как так получилось, что вы были адвокатом почти во всех уголовных делах против анархистов и антифашистов, которых преследовали в последние годы? Это осознанный выбор — защищать левых?
— Сначала я входила в эти дела с подачи правозащитников, той же «Агоры». Потом уже в результате общения с антифашистами и анархистами — они приходили сами. Тут сарафанное радио, скорее всего.
Когда долго работаешь по делу, то становишься доверителю почти как родственник. Дело в том, что адвокатская работа — она наполовину работа психолога. И вот это личное человеческое общение накладывает какой-то определенный отпечаток и [создает] определенную степень доверия.
Всегда стараешься по-человечески относиться к людям. Потому что именно это главное. В конечном счете, по политическим делам адвокат много-то и не решает. Все решение принимает суд и все зависит от того, какую позицию он займет в этой ситуации. Там если что-то и можно — то по мелочам, больше-меньше в плане срока наказания.
Скорее всего, у них надо спрашивать, почему они выбирали меня как адвоката.
— Но вы же соглашались.
— Ну я соглашалась. Может, у меня еще инстинкт самосохранения не такой завышенный, поскольку у меня нет семьи и детей. Может, поэтому я иной раз безбашенно бралась за какие-то дела.
— Каких вы придерживаетесь политических взглядов?
— Никаких. Я по национальности нерусская — марийка. У нас марийская вера — языческая, я принимаю ее. Но в то же время я крещеная и приняла православие. Пять лет была веганом, 15 лет была в эзотерике. В общем, я много чего передумала. Но сейчас я даже не столько в бога, сколько в человека, наверное, верую. Я не могу себя причислить ни к одной религиозной конфессии, ни к одной политической партии. Какие-то совершенно другие гуманистические принципы, которые важны в моей сегодняшней жизни.
— Я спрашиваю, потому что пытаюсь понять — принимаете ли вы решение, вступать в дело или нет, исходя из ваших политических взглядов. Это я все к вопросу про анархистов и антифашистов.
— Нет. Это просто чисто человеческое. Я с уважением отношусь к тому, что они из-за своих убеждений приносят себя в жертву обществу. Пусть некоторые из них, отсидев, меняют свои взгляды или отношение — я считаю, что это нормально. Но у меня вызывает глубокое уважение то, что они вопреки всему идут против течения. Имеют свои принципы. Для меня интересны именно идейные люди, которыми движут их убеждения.
— Еще один вопрос в контексте политических взглядов. Когда я узнал, что вы вступили в дело «Нового величия» и стали защищать Костыленкова — то удивился. Он придерживается правых или ультраправых взглядов и этим выбивается из общего ряда левых активистов, которых вы защищали. Для вас важны взгляды фигуранта, когда вы вступаете в политическое уголовное дело?
— Нет, я тут я даже не задумывалась на эту тему. Я просто размышляла так — статья политическая, интересная, с ней можно идти в ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека — ОВД-Инфо). Просто сейчас мне интересна именно такая работа, которая требует каких-то определенных знаний. Мне интересно покопаться, пописать самой [жалобы] в ЕСПЧ.
А Костыленков… У него свои тараканы, он такой, запутанный, сам пока не знает, что он хочет. У него есть такой юношеский энтузиазм, желание в этом мире что-то поменять, но как это сделать — он не знает и пытается своими способами и исходя из собственных знаний. Ему очень сложно по жизни, потому что он же все-таки сирота. Ему приходится как-то одному выкручиваться. Я его воспринимаю чисто по-человечески — для меня он как сын.
— Раз столько негатива, особо повлиять ни на что нельзя, то зачем вы этим занимаетесь?
— Сначала — потому что работы не было. Но вообще все эти дела — это чьи-то судьбы. Люди не должны оставаться один на один с системой.
— Ну, а сейчас-то вы смогли бы найти работу.
— Это ложная установка, что если про тебя пишут и ты работаешь по политическим делам — то к тебе идут клиенты. Не могу сказать, что вот этот пиар привел к какой-то монетизации и ко мне очередь стоит. Такого нет.

— Давно сотрудничаете с «Агорой»?
— Поскольку мы из соседних регионов — я с ними начала работать и общаться практически с самого начала, с 2005 года. В правозащитной работе интересно, что мы объединяемся в команду. Другие не понимают, но для меня это важно — делиться своим опытом. И что со мной делятся опытом. Я могу посоветоваться. Определиться с какими-то документами по работе, посоветоваться по поводу позиции, представления доказательств, форм представления — каким образом это делать. Вот это само профессиональное и человеческое общение — оно очень ценно и важно.
— Как вы принимаете решение, вступать в какое-то новое дело или нет?
— Сейчас уже как-то более рационально. Я смотрю, можно ли по этому делу будет работать в ЕСПЧ. Если да, то стараюсь такие дела брать. Сейчас ведь как. На уровне национального законодательства мало что можешь сделать в процессе по политическим делам. И единственная надежда только, что в Европейском суде дело пересмотрят и таким образом можно будет повлиять на правоприменительную практику в национальных судах.
Вот та же медицина, допустим — ятрогенные дела (преступления, связанные с врачебными ошибками — ОВД-Инфо). Долбили, долбили по медицине в Европейский суд. И были созданы целые отделы [в Следственном комитете], которые ятрогенными делами занимаются. В итоге они признали, что статьи об ответственности врачей — они другие. Это как раз результат работы, который был проделан на уровне ЕСПЧ.
Или вот, допустим, декриминализация 282 статьи. Это тоже результат работы через Европейский суд. Многочисленные жалобы, которые туда отправлялись, все равно сыграли свою роль.
— Интересно. Не думал в этом контексте о ЕСПЧ. Почему-то всегда считал, что эта такая структура, которая критикует практику российского правоприменения законов и выписывает компенсацию. Но не знал, что она оказывает какое-то давление и дает шанс что-то изменить.
— Прямого влияния нет. Это накопительный эффект. Очень медленно, но это имеет место быть. Это механизм который реально в работе можно использовать.
— Если говорить про логику системы, вы понимаете ее в деле Азата Мифтахова?
— Я думаю, что дело Мифтахова — прямое следствие того, что он по убеждениям анархист. Сейчас силовики считают анархистов чуть ли не основными врагами. Такой вывод я сделала, как глядя на общую ситуацию по уголовным делам в отношении анархистов — то же дело «Сети», так и общаясь с самими анархистами и сотрудниками правоохранительных органов. Например, когда я сидела с Азатом в отделе полиции до двух ночи, то много разговаривали и с ним, и с силовиками. Об их взгляде на жизнь и всем происходящем в России в мире.
— А почему именно Азат? Его сначала задержали по подозрению в изготовлении взрывчатки. Обвинений по этой статье ему так и не предъявили, видимо, не нашли за что зацепиться. Затем они подняли приостановленное дело о разбитом окне в офисе «Единой России». Изначально дело было по вандализму, но, видимо, статью утяжелили под Азата — теперь это хулиганство в группе лиц. И только после этого Азата арестовывают — причем арестован он один по этому делу. В общем, как-то очень много усилий вложено именно в то, чтобы Азат во-первых находился в СИЗО, а во-вторых был осужден. Причем он человек абсолютно непубличный и насколько я знаю, не был организатором каких-либо инициатив, в отличие от того же Гаскарова, Солопова, Сутуги.
— Он анархист и этого уже достаточно, к тому же он аспирант МГУ. Неважно, кто это будет, они лепят образ врага из анархистов. Пусть даже Азат никакой там не организатор, каковым считали Гаскарова. Сейчас в движении нет людей, которые могли бы вокруг себя кого-то объединить.
— Почему вы тогда сидели с Мифтаховым до двух часов ночи? Это часть адвокатской работы?
— Нет, мне просто по-человечески было его жаль. Полицейские выгонять меня не выгоняли, но давали понять, что я могу уйти. Но я понимала, что пока меня не будет, они будут на него чисто психологически давить. Я знаю, как они себя ведут в отсутствие адвоката. Даже в моем присутствии опера не могли удержаться от назиданий и вопросов к Азату: «Зачем тебе все это надо, да кто ты такой, да кому ты нужен».
— А операм-то это все зачем нужно?
— Ну они таким образом самоутверждаются. Свои собственные амбиции так удовлетворяют.
— Чувство силы? Чувство власти какое-то?
— Да. Потому что это самое сильное чувство — чувство власти. Наличие оружия в руках, ощущение власти в разной степени.
[class^="tooltip"] { position: relative; border-bottom: 1px dashed #F04E23; cursor: pointer; } [class^="tooltip"]:after { opacity: 0; visibility: hidden; position: absolute; content: attr(data-tooltip); padding: 6px 10px; top: 1.4em; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%) translateY(-2px); transform: translateX(-50%) translateY(-2px); background: grey; color: white; white-space: pre-wrap; z-index: 2; border-radius: 2px; font-size: 14px; line-height: 20px; -webkit-transition: opacity 0.2s cubic-bezier(0.64, 0.09, 0.08, 1), -webkit-transform 0.2s cubic-bezier(0.64, 0.09, 0.08, 1); transition: opacity 0.2s cubic-bezier(0.64, 0.09, 0.08, 1), -webkit-transform 0.2s cubic-bezier(0.64, 0.09, 0.08, 1); transition: opacity 0.2s cubic-bezier(0.64, 0.09, 0.08, 1), transform 0.2s cubic-bezier(0.64, 0.09, 0.08, 1); transition: opacity 0.2s cubic-bezier(0.64, 0.09, 0.08, 1), transform 0.2s cubic-bezier(0.64, 0.09, 0.08, 1), -webkit-transform 0.2s cubic-bezier(0.64, 0.09, 0.08, 1); } [class^="tooltip"]:hover:after { display: block; opacity: 1; visibility: visible; -webkit-transform: translateX(-50%) translateY(0); transform: translateX(-50%) translateY(0); } .tooltip--left:after { top: -4px; left: 0; -webkit-transform: translateX(-112%) translateY(0); transform: translateX(-112%) translateY(0); } .tooltip--left:hover:after { -webkit-transform: translateX(-110%) translateY(0); transform: translateX(-110%) translateY(0); } .tooltip--right:after { top: -4px; left: 100%; width: 320px; -webkit-transform: translateX(12%) translateY(0); transform: translateX(12%) translateY(0); } .tooltip--right:hover:after { -webkit-transform: translateX(10%) translateY(0); transform: translateX(10%) translateY(0); } .tooltip--triangle:before { content: ''; width: 0; height: 0; border-left: solid 5px transparent; border-right: solid 5px transparent; border-bottom: solid 5px grey; opacity: 0; visibility: hidden; position: absolute; -webkit-transform: translateX(-50%) translateY(-2px); transform: translateX(-50%) translateY(-2px); top: 1.1em; left: 50%; -webkit-transition: opacity 0.2s cubic-bezier(0.64, 0.09, 0.08, 1), -webkit-transform 0.2s cubic-bezier(0.64, 0.09, 0.08, 1); transition: opacity 0.2s cubic-bezier(0.64, 0.09, 0.08, 1), -webkit-transform 0.2s cubic-bezier(0.64, 0.09, 0.08, 1); transition: opacity 0.2s cubic-bezier(0.64, 0.09, 0.08, 1), transform 0.2s cubic-bezier(0.64, 0.09, 0.08, 1); transition: opacity 0.2s cubic-bezier(0.64, 0.09, 0.08, 1), transform 0.2s cubic-bezier(0.64, 0.09, 0.08, 1), -webkit-transform 0.2s cubic-bezier(0.64, 0.09, 0.08, 1); z-index: 3; } .tooltip--triangle:hover:before { display: block; opacity: 1; visibility: visible; -webkit-transform: translateX(-50%) translateY(0); transform: translateX(-50%) translateY(0); }
— За 17 лет работы адвокатом у вас получилось понять логику самой системы? Когда хватают активистов — это идет какая-то разнарядка сверху? Давить условных нацболов, или давить условных антифашистов. Или это решают силовики на местах? Не конкретные опера, а, допустим, московский Центр «Э», или пензенское ФСБ.
— Я пришла к выводу, что это системная установка. Если говорить в картинках, для меня система — это какое-то большое животное, машина, у которого большие лапы — как колеса. Если под эти колеса ты попал, то она будет так катиться и дальше топтать тебя, и топтать, и топтать, и топтать. То есть она вот жует как корова — и этими колесами гребет. И кто в нее попадает, в эти жернова, их перемалывает.
То есть это такая установка. Причем она какая-то тупая. И остается тупой, без каких-то эмоций. Абсолютно бездушный механизм, который движется. Поэтому я и говорю, что вот эти ребята, которые исходя из своих идейных убеждений пытаются что-то доказать, вызывают уважение. Потому что они реально своей жизнью жертвуют.
— Чем следователи ФСБ отличаются от других?
— Первое дело, когда я работала плотно с фээсбэшными следователями — это дело Кольченко. Тогда у меня четко сложилось [понимание], что такое фээсбэшные следователи, чем они существенно отличаются [от других], что они из себя представляют. Они искренне верят в правоту того, что они делают, зомбированные какие-то. Это не то, что следователи МВД или СК (Следственного комитета — ОВД-Инфо), которые могут как-то прислушаться к твоим доводам.
Вот это крымское дело Кольченко и Сенцова — тяжелое для меня чисто эмоционально. Именно тогда из общения со следователем я поняла, что он реально верит в то, что он говорит и что он делает. И вот сейчас в деле Рыжова — я вижу то же самое.
— Не спрашивали у сотрудников ФСБ про пытки? Зачем они это делают? Зачем пытки нужны?
— Вот про пытки я не расспрашивала. Но вообще я так поняла, что они считают это в порядке вещей. Мы — защитники в деле Сенцова и Кольченко, были в шоке, когда узнали, что следователь, который вел дело — присутствовал при пытках. Это было как часть следствия.
Когда Кольченко и Сенцов сидели в СИЗО в Ростове-на-Дону, там вместе с ними сидели ребята из кавказских регионов — по 205-ой (статья о террористической деятельности и терактах — ОВД-Инфо). Саша говорил и Сенцов говорил, что у этих ребят все конечности черные. От пыток электрическим током. Кто-то без ногтей, у них черные руки, ожоги на всем теле, следы побоев. То есть это часть системы — пытки. В НКВД в 37 году и были такие люди палачи — они остались, и это часть системы, которая есть и сейчас. Она никуда не делась и она продолжает жить, с внешними изменениями каких-то атрибутов.
— Получали ли вы угрозы за время работы по политическим делам?
— Да. Опера во время уголовных дел так и говорили: «Кем вы себя возомнили? Ваша настойчивость, попытки что-то доказать. Мы всё о вас знаем. Сегодня вы здесь, завтра вы можете оказаться там — за решеткой. Либо с вами может что-то случиться, вы же знаете судьбу [убитого адвоката Станислава] Маркелова». Или говорили: «Не боитесь, что если вас не убьют, но вы станете инвалидом? А вы слышали про такого-то адвоката?». Ну то есть не напрямую, но.
В фейсбуке пишут в личку анонимки с угрозами. Иногда опера пытаются отговорить клиентов от того, чтобы я их защищала. Допустим, в деле «Нового величия», опера и следователь говорили Костыленкову, что ему не нужен такой адвокат [как я] и предлагали отказаться.
— Как вы справляетесь со всем этим? Испытываете же, наверное, чувство несправедливости, когда выносят очередной приговор.
— Испытываю, я живой человек. Внешне вроде бы себя научилась держать в руках. А внутри — все равно какое-то бывает ощущение абсолютной безысходности. Думаешь: «Блин, когда же все будет по-человечески как-то». Потом вроде восстаешь как феникс из пепла.
И вот в такие моменты единственное спасение: стараться сглаживать все каким-то своим человеческим отношением к этим людям, которым приходится нести на себе такой крест. Потому что я не вижу другого способа, чтобы смягчить ситуацию, в которой человек оказался. Может быть, я ему не смогу где-то помочь юридически, даже не в силу собственных знаний и возможностей, а в силу сложившейся ситуации. Ну вот как еще поможешь человеку? Если несправедлив суд, несправедливо следствие, весь мир против тебя.
— А если говорить именно о вас, а не о ваших подзащитных.
— Я учусь. Стараюсь. Ищу способы, чтобы себя сберечь и сохранить. В какой то степени мои клиенты для меня тоже учителя. И я дорожу человеческими какими-то моментами, дорожу тем, что через них знакомлюсь с новыми людьми. С их близкими, знакомыми, родственниками.
Наверное, человеческое общение — это самое ценное, что у нас есть в жизни. Через общение мы познаем мир и получаем от жизни все то, что она может нам дать. Мы унесем с собой только те чувства и ощущения, которые мы пережили в этой жизни. Это могут быть люди, это могут быть животные. Это может быть наше восприятие природы, окружающего мира. Эстетическое какое-то удовольствие. От увиденного, от сделанного, от услышанного. Для этого мы пришли, и с этим мы уйдем.